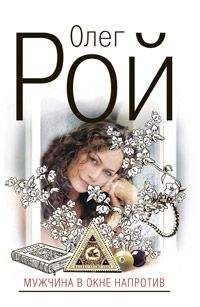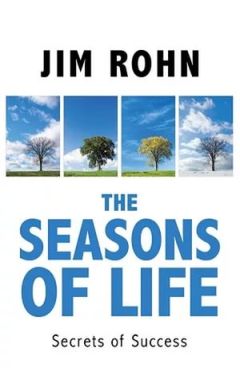Только не|мы (СИ) - Толич Игорь
Вдруг я почувствовала, да, именно почувствовала, что Тони не спит, как и я. Как и я, он смотрит на те же звёзды, смотрит поверх моей спины, поверх моего силуэта во тьме. Если бы я повернулась, если бы шелохнулась хоть чуть-чуть, не знаю, что произошло бы дальше. А точнее — знаю слишком хорошо.
Тони мягко выдыхал носом и полуоткрытым ртом в мой затылок, от этого кружилась голова.
Ближе. Ещё ближе…
Всего несколько сантиметров разделяют его губы и мои волосы, которые подрагивают от учащённого дыхания. Мне стало физически больно оттого, как скрутило живот, как замкнуло горло. Никогда, никогда раньше я не испытывала ничего подобного.
«Нельзя, — повторяла я себе. — Нельзя. Нельзя.»
Прошёл час, а может, и больше.
Тони встал с кровати, ушёл в ванную. Через пятнадцать минут он вышел, оделся и сделал вид, что будит меня. Я же сделала вид, что разбужена. Мне тоже нужен был душ. А ещё нужен был виски и какой-нибудь твёрдый предмет, чтобы ударить им себя, и, возможно, хоть так облегчить ночной кошмар, который чуть не свёл меня с ума.
После завтрака мы сели в машину. Тони включил телефон, и вскоре ему позвонила Катя. Я поняла это, потому что Тони не стал выводить звонок на громкую связь, как делал прежде. И пока он разговаривал, подбирая самые нейтральные реплики, я думала о том, как мне выжить в эту зиму, чтобы к весне дописать роман, ни разу не взглянув на чёрную визитку, которая осталась в моём кошельке. Конечно, задача была непосильной, но я упрямо верила, что справлюсь.
Тони высадил меня там же, у дома, откуда забирал вчера с утра. Мы попрощались, я вышла.
Пошла, прямо, уверенно, спокойно по чистому снегу. Он хрустел и переливался под искусственным вечерним светом.
— Лиз! — Тони выскочил из машины и подбежал ко мне.
Мы снова стоим и смотрим друг другу в глаза. Из отрытого рта Тони клубами вырывается пар. Его бледные щёки краснеют от мороза, мои — от подкативших слёз, которые я сдерживаю отчаянно.
— На нашем месте любые другие люди поступили были бы иначе сегодня ночью, — рассуждает он.
Я понимаю, о чём он говорит и соглашаюсь кивком:
— Да. Другие. Кто угодно, только не мы.
— Давай хотя бы обнимемся. На прощание, — говорит Тони.
«Не говори такого», — отвечаю я ему в мыслях, а сама молчу.
— Я всё понимаю, — произносит Тони теми же губами, что умеют беспечно улыбаться, а во сне жарко целуют воздух, который мы оба имеем право вдыхать, но не имеем права прекратить дышать в общем поцелуе. — Лиз, я хочу сказать, что в любой момент ты можешь мне позвонить. Но если не позвонишь, я пойму.
— Я не стану звонить, — говорю я или, может, просто шепчу.
— Хорошо, — кивает Тони.
— И ты тоже… не звони.
— Хорошо, — снова кивает.
Мы обнялись.
Снег падал на тёмный бистр волос Тони, дерзко контрастируя с ним, споря, перебивая. На моих же волосах он приживался будто родной, незаметный и хрупкий.
Я обнимала его крепко, обнимала навзрыд, обнимала, не желая расцеплять рук. Тони прижимал меня к себе. И сердца наши бились друг другу навстречу, готовые порвать рёбра, плоть и ткань одежды, чтобы слиться воедино.
Тони отпустил первым.
Я тоже убрала руки.
— Удачи тебе, Лиз Янсон.
— Удачи, Антон Сергеевич.
Подарив мне прощальную улыбку, Тони ушёл к машине. Вскоре, он проехал мимо, коротко посигналил и скрылся за поворотом.
Глава 4
По команде воспитательницы детки встали в кружок по периметру стен, уставленных игрушками, рядом с крохотными стульчиками и чуть в отдалении от наряженной ёлки, которую героически прикрывала широкой спиной другая воспитательница, хлопая в ладоши и отбивая ритм: «Раз! Два! Три! Четыре! Пять!». На счёт «пять» дети дружно приседали, а на счёт «раз» снова вставали, брались за руки и продолжали вести свой кривенький хоровод.
Я же стояла по центру всего действа и умилялась радостным, добрым, девственно-пустым личикам, на которых неподдельно сияли глаза при упоминании подарков. Меня нарядили в голубой плащ, обшитый мишурой. Она кололась у шеи, но я не обращала на это внимания, потому что моя миссия была довольно короткой — мне никогда не разрешали задерживаться здесь дольше, чем на час.
Поначалу меня возмутило данное условие, но мне объяснили, что делается это с той целью, чтобы крохи не привыкали, не обнадёживались понапрасну. А уж к моей затее провести детский праздник с подарками и чаепитием отнеслись вовсе осторожно, если не сказать — враждебно. Управляющая детского дома принимала взвешенное решение и одобрила предложение с условием, что после я не стану появляться до января. Она отметила, что, если бы не высокое положение Эглитиса кунгса (так в Латвии обращаются к особо уважаемым гражданам), я получила бы отказ.
— Илзе, всё очень серьёзно, когда дело касается детей, — пояснила управляющая, и извиняясь, и упреждая любые споры.
— Я понимаю, — заверила я её, уже согласная и на час, и даже на полчаса.
Несмотря на то, что именно благодаря Андрису я всё-таки выпросила свой шанс побыть волшебной феей, сам Андрис отнёсся прохладно к новости, что я собираюсь на ярмарку, чтобы скупить игрушки и рождественские сладости для маленьких сирот. Он считал, что всем необходимым их уже обеспечивает государство, а излишества могут быть вредны в самом широком смысле.
— Илзе, мы можем пожертвовать деньги, если хочешь. Педагоги сами правильно распорядятся ими, можешь быть спокойна. Наживаться на детях — непростительная жестокость. И в то же время детям постоянно что-нибудь нужно: то канцелярия, то бельё, понимаешь? — вразумлял меня Андрис с таким пылом, словно я сама — неразумное дитя. Однако видя мою решимость, он отступил: — Конечно, делай, как считаешь нужным. Но, по-моему, это всё нелепые пережитки собственного детства, когда хотелось конфет и игрушек, но необходимости в них никакой нет, в самом деле.
— Дело не в конфетах, Андрис, — настаивала я, — дело в ощущении чуда, праздника. Рождество — это чудо. Ты сам даёшь благотворительные концерты. Зачем?
— Затем, что музыка — это духовное наполнение, и Рождество — это праздник души, а не конфет.
— Для детей всё иначе.
— Илзе… — обречённо вертел головой Андрис, готовясь окончательно махнуть на меня рукой.
Я не знала, как ещё объяснить, как показать ему ту девочку, что до сих пор жила в глубине моей души, — полуголодную, страшненькую, белобрысую, нищенски одетую на последние мамины гроши.
Мой папа умер, когда мне было четыре. Я помню о нём лишь то, что он был добрым, отзывчивым сумасбродом, который сочинял стихи и колотил скворечники. О последних мне больше рассказывала мама, а папины стихи я нашла сама, когда подросла. Он писал о любви и природе, о том, как парят в тишине зимнего сада снежные звёзды, и называл их слезами ангелов.
«Когда ангелы плачут на крыше
О несбывшихся ласковых снах,
Слёзы их опадают неслышно
Белой россыпью снега впотьмах…»
Наверное, благодаря именно таким стихам моя мама некогда отдала своё сердце этому мужчине, который умел по-настоящему, красиво чувствовать и выражать свои чувства также красиво, светло, нежно. И именно благодаря ему я тоже стала писать, научившись проживать глубины человеческой любви, чувственности, духовной добродетели. Не потому, что мне нечем было заняться, а потому что моя израненная детская душа, недополучившая родительской любви, выросшая в бедности и безотцовщине, научилась находить иные богатства и раскрывать их словами.
Конечно, Андрис, родившийся и выросший в полной семье, которая, пусть и не была никогда баснословно богатой, по меркам моего детства жила сказочно, едва ли мог понять мои детские страдания по конфетам и игрушкам. Как хочется не читать молитвы, а просто съесть яркий леденец или шоколадную конфету, обнять куклу, и пусть папа и мама читают стихи или просто шутят, или даже ругаются. Лишь бы они были здоровы и оставались рядом.
И, конечно, я не могла подарить сиротам маму и папу, но леденцов, кукол и машинок я набрала столько, чтобы точно хватило всем.